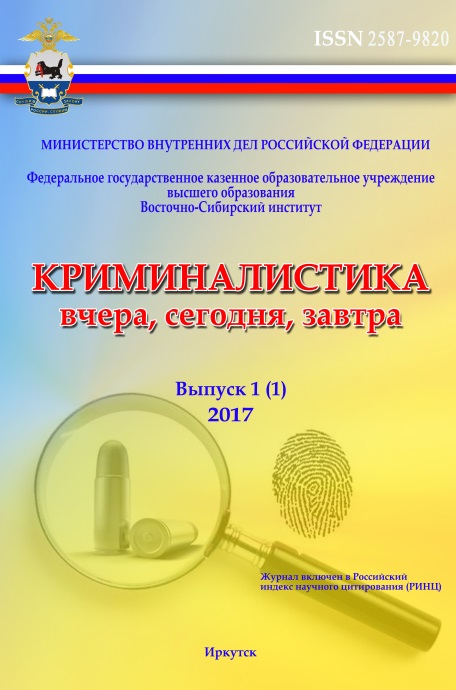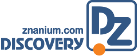from 01.01.2020 to 01.01.2024
Volgograd, Volgograd, Russian Federation
UDC 343.1
Despite a thorough study of the issues of procedural independence of the investigator in the scientific literature and proposals to strengthen it in modern conditions, no unified approaches have yet been developed to find ways to optimize the regulatory regulation of this phenomenon. The author supports the view that the investigator's procedural independence should be considered as his special legal state, in which he remains, interacting with such powerful subjects of criminal proceedings as the head of the investigative department, the prosecutor and the court. The article critically evaluates proposals to introduce an investigative apparatus into the judicial system, and argues for the need to strengthen the investigator's procedural independence in a different way – through clear and detailed regulation of his right to appeal decisions of these authorities. The article proposes to establish a "backup mechanism" for an investigator to appeal against the decision of the head of the investigative department to the supervising prosecutor, given the "interdepartmental" nature of the appeal to a higher head of the investigative department, which does not always allow the investigator to achieve the objectivity of the consideration of his complaint. The author provides arguments justifying the need to empower the investigator to bring appeals (as well as cassation and supervisory) complaints to higher courts based on the results of the court's consideration of petitions and complaints in judicial control proceedings. With reference to the legal positions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, the author argues that the investigator is interested in the possibility of negative disciplinary consequences for him following the court's consideration of appeals from participants in criminal proceedings, petitions and complaints, which allows him to be considered as an appropriate subject of appeal in the appeal, cassation and supervisory procedures.
investigator, official criminal prosecution, procedural independence of the investigator, head of the investigative department, prosecutor, appeal, appeal, cassation and supervisory appeal procedures
Введение
В уголовно-процессуальной науке категория процессуальной самостоятельности следователя всегда вызывала бурные дискуссии и несомненный интерес ученых ввиду многообразия подходов к ее определению и безусловной значимости ее соблюдения в ходе досудебного производства как гарантии объективности результатов предварительного следствия. Ряд процессуалистов видят сущность данного правового феномена в законодательно закрепленном правомочии следователя самостоятельно возбуждать уголовные дела, направлять ход расследования и в ходе него выбирать способы и средства доказывания[1, с. 12]. Часть авторов считают, что самостоятельность следователя проявляется в предоставленном законом праве не согласиться с указаниями руководителя следственного органа или требованиями прокурора относительно ключевых аспектов расследуемого уголовного дела[2, с. 228;3. С. 105; 4]. Бытует и мнение о том, что указанная самостоятельность — это ответственность следователя за принимаемые им процессуальные решения[5].
Дискуссионность данной проблематики, наличие большого числа подходов к уяснению сущности процессуальной самостоятельности следователя обусловливает многообразие предлагаемых путей по ее укреплению: от формулировки проектных норм, обеспечивающих законченное регулирование конфликтных ситуаций с участием следователя, руководителя следственного органа и прокурора, до предложения ввести следователя в судебную систему[6, с. 14; 7, с. 6], чтобы обеспечить его независимость как представителя судейского корпуса.
В настоящей статье автор попытается обосновать необходимость укрепления процессуальной самостоятельности следователя за счет развития нормативной регламентации его права на обжалование при условии его функционирования в действующей системе органов предварительного расследования.
Основная часть
Не приводя далее споры и аргументы ученых и практиков относительно правовой природы данного феномена (каждый ответственный исследователь этой проблематики делает солидный экскурс в историю вопроса с анализом существующих позиций), присоединимся к оригинальной точке зрения А.Ю. Зотова, который рассматривает процессуальную самостоятельность следователя как его особое правовое состояние, характеризующее его бытие в поле уголовно-процессуальных властеотношений[8, с. 11-13].
Действительно, только взаимодействуя в пределах своей компетенции с властными субъектами, наделенными полномочиями по осуществлению ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора и судебного контроля, следователь сталкивается с ситуациями, когда от него требуется иная модель процессуального поведения, чем ему диктует его внутреннее убеждение и ход осуществляемого им расследования. Реформа предварительного расследования 2007 г., выразившаяся, прежде всего, в перераспределении ряда полномочий между прокурором и руководителем следственного органа (далее — РСО), безусловно, коснулась процессуальной самостоятельности следователя, укрепив ее формально в отношениях с прокурором, который лишился существенных полномочий по руководству предварительным следствием. Однако ведомственный процессуальный контроль остался тем значимым фактором, который ограничивает процессуальную самостоятельность следователя. Особенно проявляется данное ограничение в органах внутренних дел, где следователь, являясь аттестованным сотрудником, продолжает испытывать на себе также и воздействие начальника органа дознания, будучи встроенным в эту своеобразную систему властеотношений. Кроме того, авторы отмечают «дисбаланс между процессуальными полномочиями следователя и руководителя следственного», констатируют, что «по процессуальной самостоятельности следователя … действующим уголовно-процессуальным законодательством нанесен сильный удар»[9, с. 105].
С.Д. Игнатов так характеризует полномочия следователя: «таковые в своем большинстве не только поставлены в зависимость от усмотрения того или иного должностного лица (руководителя следственного органа, прокурора, судьи), но и, фактически, «отняты» у него целым набором процессуальных оговорок и условностей»[9, с. 105].
Хотя закон предусматривает возможность обжалования следователем решений и указаний РСО — вышестоящему руководителю (ч. 4 ст. 124 УПК РФ), тем не менее, такое обжалование, являясь «внутрисистемным» по своей сути, не всегда может быть эффективным. Полагаем в такой ситуации для защиты процессуальной самостоятельности следователя был бы ценным «резервный канал» обжалования — надзирающему прокурору. Однако закон не позволяет осуществить подобное обжалование, хотя оно имеет значительный потенциал[5]. Данную интересную идею весьма сложно воплотить в виде конкретной отдельной нормы, т.к. она должна предусматривать механизм реакции надзирающего прокурора в виде соответствующих полномочий. В системе действующего нормативного регулирования прокурор наделен полномочием отменить незаконные постановления РСО о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом, а также о приостановлении предварительного следствия или прекращении уголовного дела или уголовного преследования в порядке ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148, ч. 1.1. ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ соответственно. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что законодатель в указанных нормах пишет о руководителе следственного органа, как о субъекте, принимающем эти решения, т.е. не как о субъекте, осуществляющем ведомственный процессуальный контроль. Значит, процедуры отмены решений РСО прокурором в случае конфликта следователя со своим руководителем не могут быть осуществлены по моделям вышеуказанных норм. Полагаем, требуется создание нового механизма правового регулирования, гарантирующего процессуальную самостоятельность следователя — в виде корреспондирующих друг другу норм, закрепленных в статьях, предусматривающих полномочия РСО, а также фиксирующих правила обжалования в порядке ст. 124 УПК РФ.
Однако проблематика процессуальной самостоятельности следователя лежит не только в плоскости нормативного регулирования, но и организационно-штатных мероприятий. Так, ситуация обостряется имеющим место кадровым «голодом» во многих следственных подразделениях органов внутренних дел. Об этом говорил 15 августа 2024 г. заместитель министра внутренних дел РФ Владимир Кубышко: «Вместо 12 оперативников работают 4. Вместо 8 следователей работают 2. Участковых из 40 осталось 6, вот такая ситуация. Огромный некомплект»[10].
В этих условиях попытка создать организационные гарантии процессуальной самостоятельности следователя путем кардинального изменения системы органов предварительного следствия приведет к значительным бюджетным расходам, что в современных условиях наше государство не может себе позволить.
Поэтому, полагаем, одним из путей укрепления процессуальной самостоятельности следователя должно быть формирование такого комплекса уголовно-процессуальных норм, который бы обеспечивал следователю возможность отстаивать свое внутреннее убеждение при конфликтах[1] с такими властными субъектами уголовного судопроизводства, как РСО и суд.
Продолжая с этой целью анализ позиции А.Ю. Зотова по вопросу процессуальной самостоятельности следователя, отметим, что он дал характеристику «правоприменительной среды», в которой следователь реализует свою процессуальную самостоятельность, выделив в ней три блока отношений: отношения взаимодействия (они возникают при совместной деятельности с органами дознания), контрольные отношения (их указанный автор ассоциирует с проявлениями контроля и процессуально-организационного руководства следователями со стороны их непосредственных руководителей) и надзорные отношения (они характерны для отношений с надзирающим прокурором)[8, с. 12-13].
Что касается первого блока отношений, связанных с реализацией взаимодействия с органами дознания, то здесь хотелось бы поспорить с А.Ю. Зотовым в части того, что данные отношения находятся в плоскости проблематики процессуальной самостоятельности следователя. Дело в том, что согласно закону поручения следователя, адресуемые органу дознания, обязательны для исполнения последним (п.п. 4, 4.1 ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 157, ч. 1 ст. 210 УПК РФ в императивном формате предписывают органу дознания выполнение соответствующих поручений). А это означает, что в указанной части взаимодействия орган дознания не вправе каким-либо образом отвергнуть направленные в его адрес поручения, ставя под сомнение процессуальную самостоятельность следователя в принятии решений. В вопросах расследования в рамках конкретного уголовного дела инициатива, власть в ключевых аспектах находится в руках лидирующего субъекта — принявшего это уголовное дело к своему производству следователя, а не у органа дознания. Поэтому включение указанным автором в сферу проблематики процессуальной самостоятельности следователя отношений взаимодействия с органом дознания видится нам ошибочным.
При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что А.Ю. Зотов не выделяет отдельным блоком отношения, развивающиеся в рамках судебно-контрольной деятельности, которые также могут влиять на правоприменительную деятельность следователя, ограничивая его в решениях и выборе формы правомерного поведения в ходе конкретной следственной ситуации согласно его внутреннему убеждению. А.Ю. Зотов обозначает проблематику, обусловленную отсутствием у следователя возможности обжаловать решение суда, вынесенное в порядке судебно-контрольной или разрешительной деятельности[8, с. 13, 132]. Тем не менее, автор не предлагает кардинальных мер по решению выявленной проблемы, а считает целесообразным предусмотреть обязательность участия следователя в заседаниях суда по рассмотрению его ходатайств правоограничительного характера. Полагаем, непосредственное присутствие следователя в таких заседаниях может стать одним из факторов, позволяющих следователю донести до суда свою позицию по заявленному ходатайству, предоставить сразу же, что называется, «вживую» контрдоводы процессуальному оппоненту в обоснование своей позиции, чем добавить аргументы в пользу положительного решения суда по заявленному ходатайству.
Однако процессуальный режим такого участия будет всего лишь небольшой частью механизма отстаивания следователем своей самостоятельности по таким значимым вопросам правоограничения, которые решаются на основании судебного постановления.
Ведь процессуальная самостоятельность следователя проявляется в возможности в спорной ситуации действовать по своему усмотрению, обжалуя то или иное решение властного субъекта, противоречащее его внутреннему убеждению (именно в такой системе отношений разрешаются конфликты по правилам ч. 3 ст. 39, ч. 4 ст. 221 УПК РФ). Полагаем, возможность обжалования подобного решения является тем самым балансом в механизме реализации процессуальной самостоятельности следователя, поддерживающим его особое «правовое состояние». Этот же формат (в виде обжалования), как видится, надлежит распространить и на конфликтные ситуации, возникающие в связи с принятием судом в рамках судебно-контрольных производств решений, противоречащих правовой позиции и внутреннему убеждению следователя.
Необходимо подчеркнуть, что механизм обжалования выступает важной гарантией защиты интересов участников правоотношений[11, с. 124].В.А. Семенцов и С.В. Рудакова отмечают, что «Обжалование является универсальным процессуальным средством, применение которого допускается на любом этапе уголовного судопроизводства, принадлежит практически любому его участнику»[12, с. 39]. Видится, что позиция уважаемых авторов вряд ли в полной мере может быть распространена на следователя в части судебного обжалования, т.к. реально следователь является «субъектом, который не имеет права подачи жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ»[13, с. 249]. Мы не считаем обжалованием использование следователем в условиях действующего нормативного регулирования потенциала ст. 125 УПК РФ, когда он, согласно ч. 3 ст. 217 УПК РФ, обращается в суд с ходатайством[2] в порядке, предусмотренном данной статьей, при злоупотреблении правом со стороны защиты.
Этот аспект нуждается в отдельном комментарии, т.к. процессуальная форма, заявленная законодателем, не соответствует предмету судебной проверки, для которой и разработан механизм ст. 125 УПК РФ. Предметом проверки в порядке ст. 125 УПК РФ согласно предписаниям ее части первой выступают «действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию». Указанное явно не соответствует содержанию ходатайства следователя, которое он подает в суд для упорядочивания ознакомления стороны защиты с материалами дела, когда имеется злоупотребление правом защитника и обвиняемого.
Очевидность ошибочно предложенного законодателем нормативного регулирования вызвала отрицательную оценку у В.Г. Волколупова, который, один из немногих, заметил противоречивость положений ч. 3 ст. 217 УПК РФ содержанию ст. 125 УПК РФ и предложил использовать для судебного разрешения указанной ситуации нормативную модель ст. 165 УПК РФ[14, с. 189-190].
С одной стороны, такой путь представляется логичным: в формате ст. 165 УПК РФ судья дает разрешение на производство следственных действий, ограничивающих конституционные права граждан (а право на ознакомление с материалами уголовного дела — это производное от конституционного права граждан на доступ к информации (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ гласит, что «должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом»).
С другой стороны, вряд ли для осуществления процессуального действия (а ознакомление с материалами уголовного дела в ограниченные сроки явно не является следственным действием), необходимо получать судебное решение, как для следственного действия. Именно по этой причине нам видится более предпочтительной позиция А.И. Лалиева, который считает целесообразным задействовать в рассматриваемой ситуации авторитет прокурорской власти, наделив прокурора полномочием устанавливать своим постановлением ограничение стороне защиты на ознакомление с материалами уголовного дела[15, с. 18].
Действительно, прокурор, осуществляя надзор за соблюдением законности в деятельности органов предварительного следствия и дознания, надзор за соблюдением ими прав и свобод участников уголовного судопроизводства, имеет достаточную информированность о ходе расследования, о проблемах, с которыми сталкиваются лица, осуществляющие следствие и дознание (в том числе — проблемах процессуальных сроков). Тем не менее, считаем, что вовлечение прокурора в эту ситуацию было бы уместным исключительно для осуществления предварительного расследования в форме дознания (именно прокурор продлевает дознавателю сроки расследования, осуществляет фактически процессуальное руководство дознанием). Что же касается следователя, то вопросы сроков следствия, процессуальное руководство предварительным следствием — это, безусловно, поле деятельности руководителя следственного органа. Видится более логичным установить дифференцированную процедуру ограничения сроков ознакомления с материалами уголовного дела для каждой формы расследования: на основании постановления следователя, согласованного с руководителем следственного органа, и на основании постановления дознавателя, которое он согласовывает с прокурором. Более того, считаем целесообразным распространить данный механизм на отношения с различными субъектами, имеющими в деле свой процессуальный интерес или отстаивающими представляемый интерес, чье поведение на заключительном этапе предварительного расследования противоречит требованиям соблюдения разумных сроков уголовного судопроизводства. Наверняка, в правоприменительной практике следователи сталкиваются с недобросовестными и недисциплинированными потерпевшими, которые затягивают сроки ознакомления с материалами уголовного дела, с подобными действиями со стороны иных участников процесса, поименованных в ст. 216 УПК РФ. При этом в законе необходимо оговорить возможность обжалования названных прокурорских постановлений и постановлений РСО в судебном порядке на основании ст. 125 УПК РФ, если субъект, чье право на ознакомление с материалами уголовного дела ограничивают, полагает, что этим решением ему затрудняют доступ к правосудию или существенно ущемляют его права, предусмотренные законом. Именно такой формат соответствует правовой природе рассматриваемых правоотношений, предмету судебного обжалования и логике процесса.
Продолжая анализировать проблематику процессуальной самостоятельности следователя сквозь призму механизма обжалования, попробуем разобраться в вопросах обжалования судебных решений, принятых в досудебном производстве. Здесь нужно подчеркнуть, что среди субъектов, осуществляющих должностное уголовное преследование, наделенных правомочием обжаловать в апелляционном порядке принятые в досудебном производстве судебные решения, следователь не указан: только государственный обвинитель и вышестоящий прокурор упомянуты в ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ, что фактически указывает на состоявшийся уже в суде первой инстанции процесс рассмотрения уголовного дела по существу. Тем не менее, апелляционный режим обжалования действует не только в отношении решений, вынесенных по первой инстанции в судебном производстве, но и в отношении решений судьи, постановленных в ходе судебно-контрольных процедур в досудебном производстве. Законодатель прямо предусматривает такой формат обжалования в ч. 11 ст. 108 УПК РФ, распространяя его, по заключению Пленума ВС РФ, «на постановления судьи об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий, о продлении срока действия данных мер пресечения и об отказе в этом в стадиях досудебного производства по уголовному делу»[3].
Однако полагаем, не только данные решения суда могут быть обжалованы и не только невластными субъектами — в силу универсальности института обжалования. Реализация должностного уголовного преследования зачастую требует от следователя принятия жестких мер процессуального принуждения, избираемых по судебному решению, продления применения этих мер на основании постановления суда, проведению комплекса следственных действий, существенно ограничивающих конституционные права граждан. Выстраивание следователем собственной линии поведения в ходе расследования нередко вызывает противодействие стороны защиты, которая может в порядке ст. 125 УПК РФ обжаловать по своему усмотрению различные действия (бездействие) и решение следователя. Указанные ситуации требуют задействования судебно-контрольных процедур, что иногда приводит к принятию судом в досудебном производстве решения, которое по своему содержанию противоречит правовой позиции, занимаемой следователем по уголовному делу.
Нам могут возразить: следователь, реализуя свои полномочия в рамках должностного уголовного преследования, не имеет собственного интереса, поэтому он и не должен быть включен в систему субъектов апелляционного (да и кассационного) обжалования. Как известно, надлежащими субъектами апелляционного обжалования выступают участники со стороны обвинения и защиты, а также иные лица «в той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы» (ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ). Казалось бы, какой личный интерес может возникнуть у следователя в указанной спорной ситуации, когда судом принимается решение, противоречащее его правовой позиции по делу? Ответ на этот вопрос вполне аргументировано дает Х.Б. Бегиев: «следователь несет персональную ответственность за свои действия (бездействие) и принятые решения. Отмена процессуального решения, вынесенного следователем, или признание его действия (бездействия) незаконными, причинившими ущерб правам участников уголовного судопроизводства, влекут за собой негативные последствия для самого следователя. Во-первых, он обязан принять решение, в незаконности которого убежден, что ущемляет его процессуальную самостоятельность. Во-вторых, следователь, допустивший процессуальное нарушение, может подвергнуться как дисциплинарной, так и материальной ответственности»[16, с. 215].
Относительно последнего тезиса хотелось бы пояснить ситуацию в контексте положений федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ[4], которым в Часть вторую ГК РФ была добавлена новелла в прежнюю редакцию ст. 1081 в виде части 3.1, которой установлена возможность регрессного иска к лицу, причинившему вред, возмещенный Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием. Эти коллективные субъекты, обязанные по закону возместить вред, «причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде … независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда» (ст. 1070 ГК РФ[5]), теперь вправе в порядке регресса взыскать и со следователя соответствующие суммы, уплаченные из казны в возмещение вреда лицу, незаконно по вине следователя подвергнутому уголовному преследованию или понесшему вред в результате действий следователя[6]. Указанные обстоятельства в совокупности с вышеизложенной аргументацией Х.Б. Бегиева, безусловно подтверждают позицию о том, что следователь не является «индифферентным» субъектом должностного уголовного преследования, что решения суда, вынесенные в рамках судебно-контрольных процедур по находящемуся в его производстве уголовному делу, могут напрямую касаться его интересов. Сказанное диктует необходимость предоставить следователю право обжалования вышеупомянутых судебных решений, что должно найти регламентацию в ст. 38 УПК РФ.
Косвенно на потребность расширения полномочий следователя по обжалованию судебных решений указывают и правовые позиции Пленума ВС РФ, нашедшие отражение в Постановлении от 25.06.2019 № 19, посвященном проблематике кассационного обжалования: «Право на обращение в суд кассационной инстанции с жалобой на законность вынесенного судом частного определения (постановления) имеет также лицо, в отношении которого может быть возбуждено дисциплинарное производство или применены иные меры, затрагивающие личные интересы этого лица, в связи с обстоятельствами, указанными в частном определении (постановлении). В других случаях кассационные жалобы дознавателя, начальника органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, представителя учреждения или органа, исполняющего наказание, возвращаются без рассмотрения»[7].
В качестве дополнительного аргумента в пользу нашего предложения можно привести позицию И.С. Дикарева, который резонно замечает, что до реформы 2007 г. прокурор в судебно-контрольных производствах занимал единую позицию с органами предварительного расследования (по причине предварительного согласования их ходатайств перед судом), поэтому он от лица органов уголовного преследования наделялся полномочием принесения кассационных и надзорных представлений в интересах последних. После ликвидации прокурорских полномочий по руководству предварительным следствием в 2007 г. ситуация существенно изменилась: ходатайства следователя согласовывает его руководитель, их позиция может не совпадать с точкой зрения прокурора. С учетом этого, подчеркивает ученый, логично наделить и следователя правом обжалования судебных решений[17, с. 61].
Выводы и заключение
Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Представляется нежелательным воплощение в жизнь кардинального реформирования следственного аппарата с введением его в судебную систему для обеспечения его процессуальной самостоятельности. Более разумным видится создание действенного механизма отстаивания внутреннего убеждения следователя в условиях несовпадения его правовой позиции по уголовному делу с мнением субъектов ведомственного процессуального и судебного контроля.
2. Для этих целей предлагаем:
— создать «резервный» механизм обжалования следователем указаний и решений РСО, противоречащих его внутреннему убеждению, когда вышестоящий руководитель следственного органа не может разрешить конфликтную ситуацию. Ввести в ч. 3 ст. 39 УПК РФ новеллу, предусматривающую возможность обжалования данных указаний прокурору.
— предусмотретьв части 2 ст. 38 УПК РФ право следователя на принесение жалоб в апелляционном, кассационном и надзорном порядках на судебные решения, принятые в досудебном производстве.
[1] Имеются в виду ситуации, когда в результате ведомственного или судебного контроля от следователя требуется иная модель принятия решений по уголовному делу, не соответствующая его внутреннему убеждению.
[2] В правоприменительной практике такое обращение следователя устойчиво называется именно ходатайством (см.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бойченко Александра Александровича на нарушение его конституционных прав статьей 125 и частью третьей статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2023 № 468-О; Апелляционное постановление Московского городского суда от 24.02.2021 № 10-3374/2021; Апелляционное постановление Московского городского суда от 26.05.2020 № 10-9067/2020. Документы опубликованы не были. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
[3] О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) // Российская газета. 2013. 27 дек.; Российская газета. 2020. 26 июня.
[4] См.: О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции: федер. закон от 21.11.2011 № 329-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6730.
[5] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 13.12.2024) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
[6]См.: Апелляционное определение Верховного суда Республики Мордовия от 04.08.2022 по делу № 33-1450/2022. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
[7] О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 19 (ред. от 29.06.2021) // Российская газета. № 142. 2019. 03 июля; Российская газета. № 159. 2021. 16 июля.
1. Khoryakov, S.N. Procedural independence of the investigator: author's abstract. diss. ... candidate of legal sciences. M., 2006. 24 p.
2. Strogovich, M.S. Course of the Soviet criminal procedure. M.: Science, 1968. Vol. 1. 470 p.
3. Gulyaev, A.P. Investigator in criminal proceedings. M.: Legal literature, 1981. 192 p.
4. Mukhiddinov, A.A. Criminal-procedural independence of the investigator in light of the requirements of the new Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan // Russian investigator. 2012. No. 4. P. 41-44.
5. Bykov, V.M. On the procedural independence of the investigator in the Russian criminal process // Russian justice. 2017. No. 8. P. 59-61.
6. Andriyenko, Yu.A. Ensuring the speed and completeness of the preliminary investigation by the investigator: dis. ... candidate of legal sciences. Omsk, 2022. 270 p.
7. Naumov, K.A. The essence and structure of pre-trial proceedings in the criminal process of Russia: author's abstract. dis. ... candidate of legal sciences. Omsk, 2021. 23 p.
8. Zotov, A.Yu. Officials of the preliminary investigation bodies as subjects of criminal procedural activity: dis. ... candidate of legal sciences. Volgograd, 2018. 237 pages.
9. Ignatov, S.D. The status of the investigator as a subject of criminal procedural evidence // Bulletin of the Udmurt University. 2015. Vol. 25. Issue 2. Pp. 101-106.
10. Ryumin, A. Deputy Head of the Ministry of Internal Affairs called the shortage of personnel huge [Electronic resource]. TASS. August 15, 2024. Title from the screen. URL: https://tass.ru/obschestvo/21610415 (date of access: 08/21/2024).
11. Khimicheva, O.V., Motyakova, O.A. Electronic complaint in pre-trial criminal proceedings // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. No. 4. Pp. 124-128.
12. Semenov, V.A., Rudakova, S.V. Modern problems of appeal in domestic criminal proceedings // Legal Bulletin of the Kuban State University. 2021. No. 2. P. 33-42.
13. Levichev, D.S., Yurchuk, S.V. Investigator as a subject who does not have the right to file a complaint under Art. 125 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation // Scientific community of students of the XXI century. Social sciences. Electronic collection of articles based on the materials of the LXI student international scientific and practical conference. Novosibirsk: Association of scientific staff "Siberian Academic Book", 2018. P. 248-251.
14. Volkolupov, V.G. Appealing procedural actions and decisions or inaction of authorities in criminal proceedings: dis. ... cand. sciences (law). Volgograd, 2022. 332 p.
15. Laliev, A.I. Problems of judicial appeal of actions (inaction) and decisions of preliminary investigation bodies: author's abstract. dis. ... cand. sciences (law). jurid. sciences. Krasnodar, 2011. 25 p.
16. Begiev, HB Judicial control and procedural independence of the investigator in court on the applicant's complaint in accordance with Article 125 of the Criminal Procedure Code of Russia // Society and Law. 2011. No. 2 (34). P. 212-218.
17. Dikarev, I.S. The right of subjects conducting criminal proceedings to file motions in the supervisory procedure // Criminal Law. 2011. No. 1. P. 58-63.